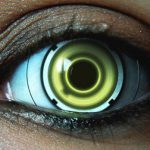Фотограф Александр Чекменёв вспоминает, с каким размахом в девяностых годах в Луганске, откуда он родом, на Пасху приходили на кладбище помянуть родных.
Первое воспоминание о Пасхе у меня связано с чем-то запретным и с ментами. Это были 1970-е, Луганск, где я тогда жил. С вечера перед Пасхой храм Петра и Павла в нашем районе окружал наряд милиции. Они стояли плотным кольцом и на службу пропускали только стариков. Впрочем, кроме них никто и не рвался. Как мне объяснили родители, в церковь ходить — личному делу вредить.
Крёстный мой говорил мне: «Прости, Саня, мы, когда тебя крестили, в церковь не заходили. Баба Вера, соседка, взяла тебя в охапку и занесла внутрь. Вот кто у тебя крёстная».
В 1980-е я подрос, и мне захотелось покаяться. Бушевала перестройка — в церковь можно было пройти свободно, милицейские кордоны уже не стояли, а в моду вошли венчания. Пока я думал, в чём именно мне покаяться, батюшка ускорил процедуру, задав вопрос: «Телевизор смотришь?» — «Смотрю, конечно», — ответил я, не понимая сути, и услышал: «Уже грешен!». На этом покаяние и закончилось.
Венчали сразу по восемь пар. Батюшка путал имена и кольца, а по окончании обряда тут же в храме наливал шампанское в свадебные бокалы.
Мне казалось это диким. Зато естественно смотрелись бутылки с водкой и столы с едой на кладбище и именно на Пасху — так было принято у нас на Донбассе. Все христосовались — целовались и угощали друг друга на могилках своих родственников. Некоторые напивались до полусмерти, чтобы воскреснуть на следующее утро.
Приехав в Киев, я решил поснимать в Пасху на кладбище, как у себя на родине, и удивился, что там никого не оказалось.
В 2000-е батюшки по телевизору обращались с призывом поминать усопших через неделю после Пасхи — на Красную горку, как называли поминальную неделю. Люди послушались и стали ходить и на Пасху, и на Гробки. Там, на кладбище, встречались все и продолжают встречаться, ещё будучи в этой жизни.
Евгений Сафонов